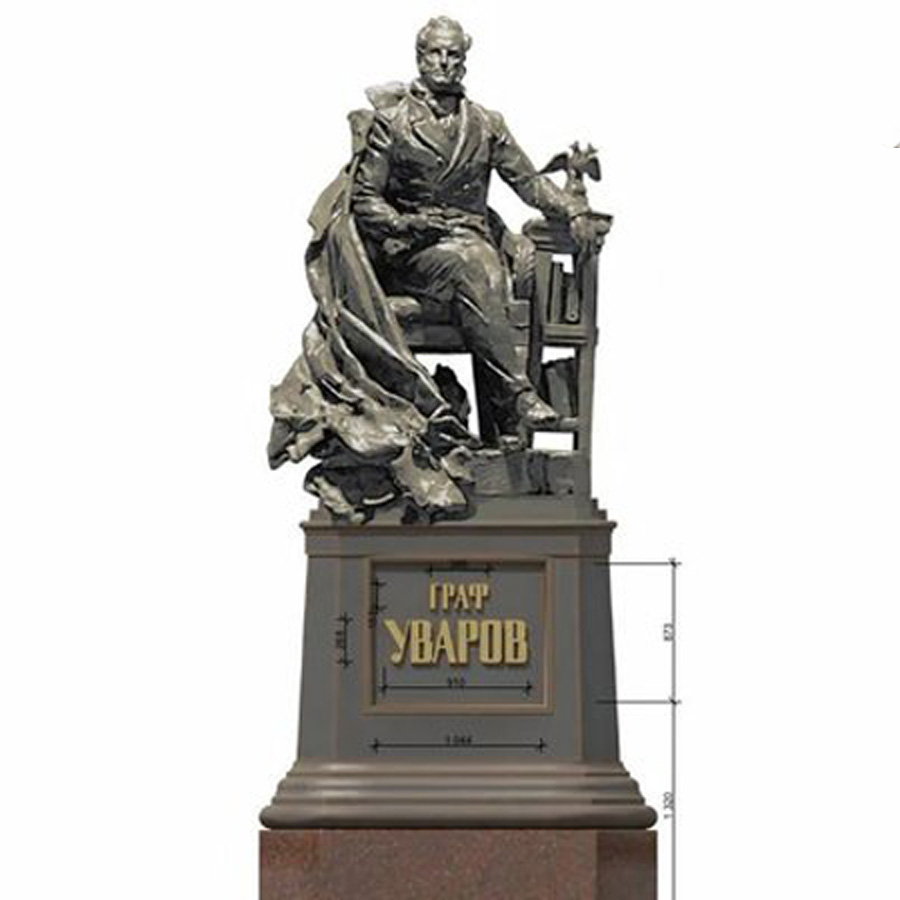Любовное помешательство Всеволода Мейерхольда
В июне 1939 года Москву взбудоражило известие: арестован Мейерхольд. Люди из НКВД пустили слух: режиссера взяли на аэродроме при попытке сесть в самолет английского посла. Анна Ахматова презрительно бросила: “Кто же поверит, что он хотел бежать из Советского Союза один, без Райх?” Это был сильный аргумент. Все знали, что Всеволод Эмильевич просто помешан на собственной жене…
“Севочка, да как они смеют! — Зинаида Райх, рыдая, ворвалась в кабинет к мужу со свеженапечатанным томиком романа “Двенадцать стульев” — Ты только послушай! “Агафья Тихоновна была в трико телесного цвета и мужском котелке. Балансируя зонтиком с надписью: “Я хочу Подколесина”, она переступала по проволоке, и снизу всем были видны ее грязные подошвы. Одновременно с этим все негры, Подколесин, Кочкарев в балетных пачках и сваха в костюме вагоновожатого сделали обратное сальто. Кочкарев с Подколесиным спели дуэты про Чемберлена”. Севочка, за что нам этот пасквиль, эта карикатура?! Что значит: “грязные подошвы”?!!!”.
“Да что ты, Зиночка! — успокаивал муж. — Какая же это карикатура? Да тут и преувеличения-то почти никакого… Нет, граждане, безумней, чем у Мейерхольда, вам не придумать — кишка тонка! А, помнишь, у Булгакова в “Роковых яйцах” про “театр имени покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего при постановке пушкинского “Бориса Годунова”, когда обрушились трапеции с голыми боярами”? Ну и пусть пишут, от нас с тобой не убудет! А, кстати, не осовременить ли нам и вправду “Годунова”? Вот все переполошаться-то! Станут кричать, что Мейерхольд совсем спятил”, — и Всеволод Эмильевич зашелся своим странным, каким-то “картонным” смехом…
Всеволод Мейерхольд и Зинаида Райх.
Красавица Зинаида сверкнула на мужа заплаканными глазами. Ну почему он так гордиться, что безумнее всех? Почему его “ГосТИМ” (Государственный театр имени самого себя) не похож на храм искусства? Зачем мешать Гоголя, Островского, Грибоедова с передовицами советских газет? Зачем заставлять актеров скакать по сцене, как акробатов? Для чего все эти вращающиеся колеса, условные конструкции? “Зритель должен самостоятельно домысливать место и обстановку действия, — говорит Мейерхольд. — Мой театр не для фармацевтов”! Эстетствующий юродивый! И что толку, что его сравнивают с Пикассо, и сам Станиславский называет “единственным настоящим театральным режиссером современности”? Ведь ей, бессменной приме Театра имени Мейерхольда, достаются одни издевки! Много ума не надо, чтобы понять — Агафья Тихоновна с грязными подошвами из “Театра Колумба” — это же она, Райх!
Если честно, ее раздражало в муже все: и этот наряд впавшего в маразм фронтовика — солдатская гимнастерка, феска с кистью и алый гарусный шарф. И его дикая речь с неожиданными остановками и неприятным смехом. И его худоба, и белесые немецкие глаза, и длинные цепкие пальцы, и манера вращать головой, как на шарнирах, на 45 градусов направо и налево при полной неподвижности плеч. Во всей фигуре Севочки — что-то странное, гофмановское. Ну как такого любить? А вот ей, Зиночке, приходится! Что за несчастье!

Зинаида Райх и Всеволод Мейерхольд
РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА
Познакомились они случайно. Мейерхольд зашел хлопотать о чем-то в Наркомпрос, а Райх сидела там, в секретариате Крупской, за пишущей машинкой. Красивая, высокая, коротко стриженная, в кожаной куртке и сапогах. На матовом лице глаза — как спелые вишни. Ей было двадцать восемь, ему — на двадцать лет больше. “Хотите ко мне в студию? — с ходу предложил Мейерхольд. — Я сделаю из вас актрису. Лучшую актрису России, обещаю вам!”
Вот это был поворот! А ведь еще утром Зинаиде Есениной-Райх казалось, что жизнь пропала окончательно! Ее брак с Есениным рухнул, не просуществовав и года. Осталось двое детей мал мала меньше. И ничем незаслуженная ненависть есенинских друзей. “Это дебелая еврейская дама. Щедрая природа одарила ее чувственными губами на лице круглом, как тарелка... Кривоватые ее ноги ходят, как по палубе корабля, плывущего в качку”, — дерзил Мариенгоф. Шершеневич каламбурил: “Ах, как мне надоело смотреть на райх-итичные ноги!” Она терпела от Есенина все — его дикие загулы, побои. А он пьяно откровенничал на каждом углу: “Не могу я с Зинаидой жить. Говорил ей — понимать не хочет”... В конце концов через Мариенгофа ей было передано: пусть убирается, у Есенина давно другая женщина. Райх ушла. По этому поводу Есенин сочинил пронзительные стихи: “Вы помните, вы все, конечно, помните, Как я стоял, приблизившись к стене; Взволнованно ходили вы по комнате И что-то резкое в лицо бросали мне”, — и на время забыл о ее существовании. Впрочем, когда Зинаида с двухлетней Танечкой и годовалым Костей переехала к Мейерхольду, поэт вдруг заревновал и все порывался “идти бить Зинке морду”. Случалось, плакал навзрыд, глядя из партера мейерхольдовского театра на бывшую жену.

Всеволод Мейерхольд и Зинаида Райх.
Зато с Мейерхольдом Зинаиде повезло. Этот от любви просто обезумел! Скоропалительно развелся с женой, с которой прожил без малого тридцать лет и от которой имел трех взрослых дочерей. Ввел Райх, не имеющую ни малейшего актерского опыта, в труппу своего театра, и сразу на первые роли. Однажды Всеволод Эмильевич спросил Мариенгофа: “Как вы думаете, Зинаида будет великой актрисой?” Тот ответил: “А почему не изобретателем электричества?”. Больше Мейерхольд ничьего мнения на счет Райх не спрашивал. Просто выстраивал мизансцены таким образом, чтобы зритель волей-неволей смотрел только на нее, слушал только ее, восхищался только ею. У бывшей примы — Марии Бабановой отнималась роль за ролью. И когда один драматург принес пьесу, написанную специально для Бабановой, Мейерхольд переглянулся с Райх: “Вам, конечно, будет приятно узнать, что эту роль согласилась играть Зинаида Николаевна?”. Бабанова горько плакала, но Мастер был неумолим…
Актеры созвали общее собрание, постановили: запретить Мейерхольду жениться на этой выскочке! Но он плевать хотел на их решения. После свадьбы Всеволод Эмильевич даже поменял паспорт и записался Мейерхольдом-Райх. Зинаида же ограничилась тем, что отказалась от второй фамилии — Есенина и сделалась просто Райх. По-началу она надеялась, что ее второй брак не будет последним, и откровенничала с подружками: “Я очень надеюсь на Севочку — он сделает из меня большую актрису, и тогда я от него уйду. Поступлю в Московский Художественный, закручу головокружительный роман… Да хоть, к примеру, с Качаловым! Ведь какой красавец!” Но только со временем она убедилась: в МХТ ее не возьмут ни за какие коврижки! Потому что никто, кроме Мейерхольда, не считает ее одаренной актрисой.
Театральные рецензии пестрели издевками: “Очень слабо играла Зинаида Райх, и это все заметили, кроме Всеволода Мейерхольда. Но мужья всегда узнают правду последними”, “Ее сценическая беспомощность, физическая неподготовленность и неуклюжесть, слишком очевидны”. Всеволод Эмильевич отчего-то решил, что это — происки Бабановой, и той пришлось покинуть театр. Еще раньше ушел Игорь Ильинский — безусловная звезда, посмотреть на которого зритель валом валил в “ГосТИМ”. Повод — осветитель высвечивал Райх, даже когда она стояла в глубине сцены, а Ильинский, даже стоя у рампы, неизменно оказывался в тени. Когда же Мейерхольд заговорил о своем желании ставить “Гамлета” с Зиночкой в главной роли, актер Охлопков воскликнул: “В таком случае я сыграю Афелию!”, — и тоже вылетел из театра. Впрочем, со временем страсти улеглись. Простая публика, не разбиравшая, где заслуга режиссера, где — актерское мастерство, к Райх привыкла, и стала-таки аплодировать. В одной берлинской газете даже написали: “Мейерхольд! Учись у Райх!”, — Зинаида Николаевна вечно таскала эту глупую статейку с собой. Мужу это казалось трогательным, как и все другие ее “грешки”…
Зиночка часто заставляла его ревновать. К примеру, увлеклась Николаем Волковым, гражданским мужем Ольги Книппер-Чеховой. Да что там! Она и дня не могла прожить без поклонников. Чтобы не допустить ни малейшей конкуренции, запретила мужу звать домой женщин — только мужчин. Гостей принимала роскошно одетая, остроумная, кокетливая — королева! Их квартира в Брюсовском переулке была образцом роскоши по-советски: мебель из карельской березы, ковры, японские вазы, хрусталь, баккара. Мейерхольд привнес в это великолепие только одну деталь: пустые рамы без полотен на стенах: “Картину домыслит смотрящий”, — объяснял Мастер. Он сам роскоши не любил, если не сказать: ненавидел. Так уж повелось с самой его юности, когда он не был еще ни Всеволодом, ни Мейерхольдом…
ОТСТУПНИК
Его отец, Эмилий Федорович Мейергольд, подданный Пруссии, державший на письменном столе портрет Бисмарка, исправно слушавший проповеди лютеранского пастора, был чистокровным немцем и в то же время типичным русским купцом-самодуром. Еще в молодости Эмилий Федорович открыл винокуренный завод в Поволжье и чудовищно обогатился на производстве водки “Углевки”. Его дом славился хлебосольством на всю Пензу, там задавались неслыханно роскошные балы, а детей держали впроголодь. О бурных интрижках Эмилия Федоровича говорил весь город (и это помимо второй, неофициальной семьи, в которой у старшего Мейергольда было двое незаконнорожденных детей), но когда сын Артур женился на актрисе, Эмилий Федорович изгнал его из дома: “С актрисами развлекаются, на актрисах не женятся”.
Можно представить, как трепетал младший сын, 18-летний Карл, задумав жениться без разрешения отца. И хотя, признайся он в своей страсти к Олечке Мунт, Эмилий Федорович был бы только рад (невеста богатая, из почтенной семьи, ее отец — член губернской палаты), романтическому юноше все представлялось, что он должен непременно пожертвовать чем-то, пойти наперекор, преодолеть, ослушаться… Просто Карл не умел любить без фанатизма, а фанатизм требовал героических поступков. Вот только Эмилий Федорович так ни о чем и не узнал, потому что скоропостижно умер.
Что ж! Карл рассудил, что это еще не повод отменять задуманный бунт. И, когда весь клан Мейергольдов (мать Альвина Даниловна, четыре брата и две сестры) собрался в отцовском кабинете, чтобы огласить завещание покойного и обсудить перспективы “Торгового дома Э.Ф. Мейергольд и сыновья”, торжественно объявил: “На меня не рассчитывайте! Я ненавижу вашу роскошь, ваши деньги, ваш винокуренный завод. Не хочу даже носить вашу фамилию. Запишусь Мейерхольдом, как рекомендовано русской грамматикой Грота. Я ухожу от вас и буду жить бедно, но честно. С Олечкой Мунт мы поженимся, а приданого не возьмем. И еще — я перехожу в православие, меняю прусское подданство на российское, а имя Карл на Всеволода”.
Всеволодом звали писателя Гаршина, который был кумиром юного Карла — главным образом потому, что застрелился. Карл-Всеволод и сам много размышлял о самоубийстве, писал в дневнике: “Мне все мерещатся прорубь, яд и петля” и ночами извлекал такие тоскливые звуки из своей скрипки (он с детства неплохо музицировал), что у родных мороз пробирал по коже. К счастью, ни малейшего повода свести счеты с жизнью у мрачного юноши так и не нашлось. Впрочем, он и без того достаточно огорчил свою мать, потому что действительно воплотил в жизнь все, что обещал на том семейном совете. “Весь в отца, — плакала Альвина Даниловна, — из самодурства через что угодно переступит!”...
…В новую жизнь Карл-Всеволод взял только отцовский английский плащ, фетровую шляпу и чемодан крокодильей кожи. Он отправился в Москву, на юридический факультет университета, который, впрочем, скоро бросил ради курса Немировича Данченко в Филармоническом училище. Дорожку туда проторила Катя Мунт, сестра его невесты, которая все никак не могла сделаться женой — как студент, Мейерхольд не мог вступить в брак без разрешения министра просвещения. Почти год юноша слал в Петербург ходатайство за ходатайством, пока, его, наконец не удовлетворили.
Венчание с Ольгой состоялось 17 апреля 1896 года в Пензе. Жизнь окончательно наладилась, когда Немирович-Данченко со Станиславским открыли Московский Художественный Театр. Мейерхольда взяли в труппу с окладом в 115 рублей в месяц, Екатерине Мунт положили 60 рублей. Нашлось место и для Ольги — в конторе театра, с жалованием в 30 рублей. Решено было жить втроем. Вернее — вчетвером, потому что к этому времени Ольга уже родила дочь Марию. Сняли квартиру в Божедомском переулке, и, пусть обедали не каждый день, жили превесело!
Актерский дар Мейерхольда — резкий, шаржевый. Станиславский говорил про него: “суховат в добродушных местах”. А Немирович-Данченко и вовсе разочаровался в своем ученике: “Это черт знает что! Яичница с луком! Сумятица человека, который каждый день открывает по несколько истин, одна другую толкающих!”, — невнятно ругался он. А, когда на “Мещанах” в зале вдруг стали шикать, отцы-основатели МХТ и вовсе стали воротить от Мейерхольда нос — подозревали, что это он рассадил в зале своих приятелей — мол, озлобился, что не дают главных ролей. В итоге Всеволод, чуть не единственный из труппы, не получил ссуды от Саввы Морозова и не стал пайщиком строящегося нового здания Художественного театра в Камергерском переулке. Не перенеся обиды, Мейерхольд ушел из театра.
Так началась чуть не двадцатилетняя полоса скитаний по театрам и городам: Херсон, Тифлис, снова Москва… Верная Ольга, да и Катя тоже — везде и всюду с Мейерхольдом. Детей у него уже трое, и все — девочки. И их всех нужно прокормить… А характер у Мейерхольда неуживчивый, трудный. Ему все казалось, что кругом враги, что коллеги только и делают, что плетут интриги, устраивают сговоры, пускают сплетни… Он торопился первым нанести удар тем, кого подозревал — и часто несправедливо. Что ж удивляться, что больше нескольких сезонов Мейерхольд нигде не задерживался.

Со временем он все реже играл на сцене, и все чаще режиссировал. В Петербурге, в театре у Комиссаржевской поставил блоковский “Балаганчик” — необычайный, ни на что ни похожий, символистский спектакль. Публика разделилась: одни бешено аплодировали, другие шикали и обзывали мейерхольдовское творение “Бедламчиком”. Режиссеру в очередной раз указали на дверь. В газете напечатали карикатуру: нищий Мейерхольд уныло стоит с шарманкой и мартышкой и просит подаяние. “Папа, разве у тебя есть мартышка?”, — недоумевала десятилетняя дочь Маша. “Может, скоро будет”, — вздыхал Всеволод Эмильевич. Им уже нечем было платить за квартиру, а Ольга Михайловна, усевшись с мужем на их излюбленное место — перед камином, прямо на ковер — гладила его по бедовой голове и все твердила: “Только не соглашайся на компромиссы! Нельзя в поисках благополучия изменять себе самому!” И, когда Мейерхольда позвали в консервативный Суворинский театр, совсем не подходящий режиссеру-новатору, она потребовала, чтобы он решительно отказался!
Впрочем, предложение поработать на императорских сценах, в Александринке и Мариинке, Мейерхольдами решено было принять. Но тут уж актеры стали грудью против “Калифа на час”. Его режиссуры боялись. Про его актерские способности и слышать не хотели: “Настоящее чучело ходит по сцене и портит и пьесу”, — шипели недоброжелатели. И все же Мейерхольд прослужил там до самого октября 1917 года, хоть и жаловался: “Ни разу за годы службы в имперских театрах я не входил в двери без опасений, что могу получить в спину удар ножом”.
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА “РЕВОЛЮЦИЯ”
1917 год. В Михайловском театре — собрание городской интеллигенции. Председательствует Горький. Слово берет и Мейерхольд. Но вместо того, чтобы говорить о революции, он вдруг принимается ругать своих врагов, оспаривать несправедливую критику… Из зала крикнули: “Перестаньте перемывать грязное белье! Определите, наконец, свою политическую позицию!” Но это и было его политической позицией — всеми правдами и неправдами бороться с неприятелями авангардного театра. А для этого теперь нужно было непременно быть большевиком. Вот Мейерхольд — чуть не первый из всех деятелей театра — и вступил в коммунистическую партию. Актеры вздумали саботировать репетиции и спектакля “красного режиссера” — он отыскал на улице первого попавшегося красноармейца и потребовал арестовать “врагов революции” — пареньку-красноармейцу с трудом удалось объяснить Мейерхольду, что с этой целью нужно звонить в ЧК. Впрочем, Мейерхольд скоро совсем порвал с опостылившими труппами — и вскоре на премьере неслыханной “Мистерии-буфф” исполнители, которых он наспех набрал по объявлению в газете, по ходу действия рвали в клочки афиши старых императорских театров.
Весной 1918 года в Питере стало голодно. Из темной муки пеклись пироги с начинкой из конины. Распаривалась старая, каменная вобла. Варились картофельные очистки. Мороженная капуста почиталась за счастье! Старшая дочь, Мария, еще в 1914 году перебравшаяся в Новороссийск, звала родителей и сестер к себе, откормиться сметаной, творогом и медом. Мейерхольд не поехал — некогда! А Ольгу Михайловну и двух младших дочерей отправил. Вскоре в Новороссийск вошли деникинцы, и семья оказалось разбитой линией фронта. Впрочем, Всеволода Эмильевича, подорвавшего здоровье в театральных баталиях, врачи отправили немного подлечиться в Ялту — как раз накануне того, как белые заняли Крым. “Какая разница, где ждать ареста?”, — подумал большевик-Мейерхольд, и на турецкой фелюге дернул в к семье, в Новороссийск. Там его, действительно. Арестовали, но обошлись мягко: давали читать книги из библиотеки и позволили поставить прямо в тюрьме спектакль. Чтобы задействовать всех арестантов — а их в камере набралось пятьдесят, Мейерхольд избрал многолюдного “Бориса Годунова”. Раздевал ли он бояр донага, как предположил Булгаков в “Роковых яйцах” — осталось неизвестным.
В конце концов, благодаря униженным просьбам и неустанных хлопотам жены, Мейерхольда выпустили на поруки. В марте 1920 года в Новороссийск вошли войска Красной Армии, и семья получила возможность уехать. Всеволод Эмильевич отправился по приглашению Луначарского в Москву, Ольга Михайловна с девочками — домой, в Питер. Предполагалось, что скоро они воссоединятся. Кто же мог предположить, что через несколько месяцев Мейерхольд встретит Райх? Кстати, после развода с Ольгой он почти прекратил отношения и с дочерьми. Говорил: “Не хочу, чтобы мне рожали внуков — еще не хватало мне старости!”
Его ученик Сергей Эйзенштейн писал: “Счастье тому, кто соприкасался с Мейерхольдом как с магом и волшебником театра. Горе тому, кто зависел от него, как от человека”. И в Москве очень скоро в полной мере оценили эти “горе” и “счастье”. Началось с того, что Луначарский назначил Всеволода Эмильевича заведующим Театральным отделом Наркомпроса — что-то вроде комиссара советских театров. Мейерхольд стал носить шинель, гимнастерку, брюки-галифе, военную фуражку с приколотой фотографией Ленина. Пристрастился к фразе: “Я говорю вам от имени революции!”. И перенял хамоватый, бесцеремонный пролетарский стиль. Друзья качали головами: “Только прирожденный актер может так вжиться в образ!” Иначе и нельзя было объяснить, как мог образованный человек из приличной семьи взять и выгнать на улицу балетмейстера Голейзовского, преспокойно занять его особняк, спать на его кровати, есть за его столом, на том только основании, что должен же заведующий ТЕО Наркомпроса где-то жить, спать и есть.
Администратором Мейерхольд оказался смелым, но очень плохим. Его идеи были одна завиральнее другой. К примеру, упразднить профессиональных актеров и предоставить возможность рабочим и крестьянам самим играть на сцене — в свободное от основной работы время. Заменить театральные билеты жетонами и раздавать их трудящимся и красноармейцам бесплатно по какой-то невероятно сложной и запутанной системе. Унифицировать названия театров: “РСФСР 1-й”, “РСФСР 2-й”, “РСФСР 3-й” и так далее. Луначарский только и успевал отменять все это!
Но над театром “РСФСР 1-й”, главным режиссером которого был сам Мейерхольд, не властен был даже Луначарский. Там ударялись в отчаянную “левизну”: с лож содрали перила, с потолка — лепнину, оголили стены до кирпичной кладки, повсюду развесили плакаты и лозунги. Актеры (все-таки профессиональные — Мейерхольд быстро убедился, что с одними рабочими и крестьянами театральной каши не заваришь!) выходили на сцену без грима и подавали реплики в духе ораторов на митинге — хриплыми, возбужденными голосами. В текст спектакля ежедневно вставляли новейшую информацию РОСТА. Зрителям разрешилось лузгать семечки и курить махорку, но вменялось в обязанность заполнять длиннющие опросные листы — так Мейерхольд “нащупывал” интересы новой, пролетарской аудитории.
При этом Мейерхольд был одержим настоящей шпиономанией. Во время каждой репетиции несколько раз прерывался, чтобы осмотреть зал — нет ли здесь каких-либо недругов? Во время спектаклей стоял за кулисами и, прищурившись, напряженно следил за игрой актеров: нет ли какого саботажа? Спиной чувствуя его неподвижный, полубезумный взгляд, бедняги нервничали и играли значительно хуже, чем на репетициях — что, кстати, и считалось саботажем.
Мейерхольда многие всерьез боялись. На всех заседаниях, собраниях и съездах он неизменно устраивал сумбур и скандал с истерическими криками, проклятьями, навешиванием клишированных ярлыков вроде “Вы — охвостье Чайковского! Гнездо реакции! Враги революции!”, — и угрозами арестовать. Наконец, в феврале 1921 года Всеволода Эмильевича сместили с комиссарского поста — ко всеобщему облегчению, не исключая и Луначарского. А вскоре был закрыт и “РСФСР 1-й”.
Впрочем, не прошло и года, как Мейерхольд открыл новый театр — “ТИМ”. И проруководил им долгих пятнадцать лет! При этом судился со своими актерами по пустякам (был однажды даже оштрафован на 300 рублей за клевету, когда он в очередной раз подал в суд на группу “саботажников”, посмевших уволиться из театра) и вечно опасался, что кто-то из обиженных его застрелит. Он почему-то предчувствовал, что погибнет от пули… А вот Зинаиде Николаевне напророчили нож — крепко нелюбившие коллеги вечно шептали ей в спину: “Хоть бы скорее ее зарезали!”. Не прибили, не отравили, а именно зарезали. Кто ж мог знать, что все так и случится…
Когда в конце двадцатых ГосТИМ стал утрачивать популярность (публика рвалась тогда во МХАТ, на “Дни Турбиных”), один рецензент написал о Мейерхольде: “Старый волк, матерый зверь! Ты отступаешь, ты дрожишь от холода, подставляя копну волос бурному ветру суровой зимы, ты потерял чувство дороги, — мастер, ты гибнешь, величественный, негнущийся Мейерхольд!”
Всеволод Эмильевич с Зинаидой Николаевной уехали-было за границу, дело вполне могло бы кончиться эмиграцией, но из Москвы пришло радостное известие: правительственная комиссия выделила 30 тысяч рублей на поддержание ГосТИМа , решено было вернуться. Мейерхольд оставался в фаворе у советской власти еще несколько лет. В изданной в 1933 году толстенной “Истории советского театра” он — единственный — был прямо обозначен, как гениальный режиссер. Он по-прежнему входил во всевозможные комиссии и комитеты — вплоть до 1936 года. Затем художественные пристрастия “истинных коммунистов” стали стремительно меняться. И, как в советской литературе образцом для подражания был объявлен Горький, так в театральном искусстве — МХАТ. Формализму в советском искусстве пришел конец. Вот тут-то Мейерхольду и стали припоминать “грешки”: и выезд за границу, слишком похожий на попытку эмиграции, и использование в спектаклях музыки опального Шостаковича (это было еще до статьи в “Правде” “Сумбур вместо музыки”, но все же, все же)… И, самое непростительное — посвящение одного из спектаклей в 1923 году, к пятилетию создания Красной Армии, “Первому Красноармейцу РСФСР Льву Троцкому”.
Словом, стоило в газете один раз появиться подлому словечку “мейерхольдовщина”, и началось! Отречения учеников, клятвы “вывести на чистую воду”, требования “покончить”, рекомендации “разоблачить”… Постановка “Бориса Годунова”, на которую Мейерхольд только-только окончательно решился, была запрещена. Может, дело и дошло бы до голых бояр на трапеции — кто ж теперь скажет? Ведь театр был закрыт еще до первой репетиции…
Последним спектаклем Мейерхольда и Райх стала “Дама с камелиями” — отчасти это была попытка задобрить власти: мол, и мы возвращаемся к классике, решительно отказываемся от формализма и намерены отныне идти благонадежной дорогой натурализма. Отчасти — исполнение напоследок многолетней мечты Райх — сыграть, как во МХАТе. И последние слова героини: “Ты видишь, я улыбаюсь, я сильная... Жизнь идет”, — Райх, говорят, произносила с настоящей актерской силой. Затем она опускалась в кресло спиной к зрителям. После долгой паузы левая рука ее падала с подлокотника и повисала как плеть. Так Мейерхольд показывал смерть. Увы! Режиссер и его актриса слишком поздно поняли, что, когда вечером 7 января 1938 года, накануне закрытия “ГосТИМа”, рука Райх повила в воздухе — это действительно был конец.
Они еще пытались бороться. Была даже иллюзия, что все наладится — Райх взяли в театр Ленсовета, Мейерхольда приютил Станиславский в оперном театре. На первое занятие оперной студии он пришел в мятом костюме, с небрежно завязанным галстуком, нечесаный. У Станиславского сердце сжалось от жалости — он слишком хорошо помнил, каким денди этот человек был до того, как его сломали.
Кажется, Мейерхольда горячо, до умопомрачения жалела и Райх. Иначе трудно объяснить то, что она сделала. Или она под конец совсем разучилась понимать что-либо, кроме себя самой, своих нужд и переживаний? Ведь она в одночасье лишилась высокого положения, аплодисментов, поклонников… Как бы там ни было, но Зинаида Николаевна, ни с кем ни посоветовавшись, отослала совершенно безумное письмо Сталину. В числе прочих непочтительностей там были и такие: “Как вы, грузин, можете судить о русском театре?”, “Вам самому не помешало бы брать уроки понимания сценического искусства у Мейерхольда!”. Вряд ли она знала, что подписывает и себе, и мужу смертный приговор…
ОГРАБЛЕНИЕ ПО…
20 июня 1939 года в Ленинграде был арестован Мейерхольд. Ему каким-то чудом удалось позвонить жене, но связь оборвалась, и он так почти и не успел ничего сказать. Впрочем, не прошло и часа, как в московскую квартиру Мастера пришли с обыском. Первым делом была изъята копия того самого письма Сталину на 6 листах. В протоколе была зафиксирована жалоба гражданки 3.Н. Райх, протестующей против поведения одного из сотрудников НКВД. Говорят, этот сотрудник получил строгий выговор от начальства — “за допущенное протоколирование жалоб обыскиваемого”.
Мейерхольд тоже пытался жаловаться — написал Молотову: “Меня, 65-летнего старика, заставили лечь на пол лицом вниз и били по подошвам и по позвоночнику резиновым ремнем... Я выл и плакал от боли”. Ответа, понятно, не получил. И через полгода признался во всем: в шпионаже в пользу англичан, японцев, в участии в троцкистской организации… Он назвал всех своих сообщников: Эренбурга, Пастернака, Катаева, Эйзенштейна, Шостаковича, Утесова… К счастью, ни одного из них брать не стали.
А поздним вечером 15 июля 1939 года Зинаиду Николаевну Райх зарезали грабители. То есть сначала пришли двое сотрудников НКВД, открыли балкон в кабинете Всеволода Эмильевича и опечатали его, не запирая на замок. А потом уж, минут через двадцать, двое неизвестных зашли через этот балкон в квартиру и нанесли хозяйке 17 ножевых ран. Соседи слышали крики Райх, но решили, что у нее очередная истерика. Впрочем, дворник все же выглянул из своей каморки — как раз в тот момент, когда двое мужчин садились в ожидавшую их машину.
Райх похоронили в том же черном бархатном платье, в котором она играла свою долгожданную “Даму с камелиями”. Сразу по возвращении с кладбища ее дети — Татьяна и Константин Есенины — узнали, что обязаны освободить квартиру, так как она отходит НКВД. Прошло несколько лет, и убийцы Зинаиды Райх были, наконец, названы народу: соседи Мейерхольдов, артист Большого театра Головин с сыном. И напрасно они твердили, что единственная улика — золотой портсигар с вензелем Мейерхольда — был подарен на день рождения! Преступникам пришлось-таки отсидеть в тюрьме несколько лет — пока их не реабилитировали и не освободили. Пришлось посидеть и домработнице Мерерхольдов, Лидии Анисимовне Чарнецкой, и она все тараторила товаркам по камере: “Так чего ж они хочут от меня, никак в толк не возьму? Откуда ж знать мне, об чем хозяева разговаривали? Я ж им только кушать на стол подам — и на снова кухню!”.
А Всеволод Эмильевич Мейерхольд ко дню своего рождения — 28 января 1940 года — получил, наконец, копию своего обвинительного заключения. А через пять дней, 2 февраля, его отвели в подвал Военной Коллегии и расстреляли. Вместе с ним погиб поэт Михаил Кольцов.
Бывшая семья Мастера — Ольга Михайловна и дочери — получила извещение о том, что Мейерхольду дали 10 лет без права переписки. Для него в Бутырке даже брали передачи, и бедные женщины несколько месяцев провели в чудовищных тюремных очередях. Пока Ольга Михайловна не объявила, проснувшись однажды утром: “Я это предчувствовала — теперь знаю точно: вашего отца нет в живых”. А еще через несколько месяцев она и сама тихо угасла — дочери говорили, что от горя…
Автор статьи: Ирина Лыкова